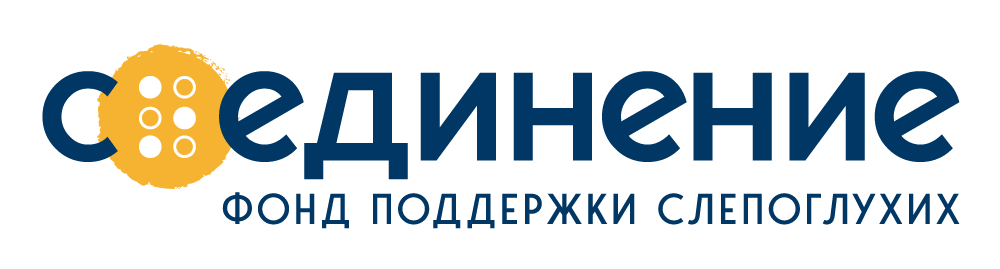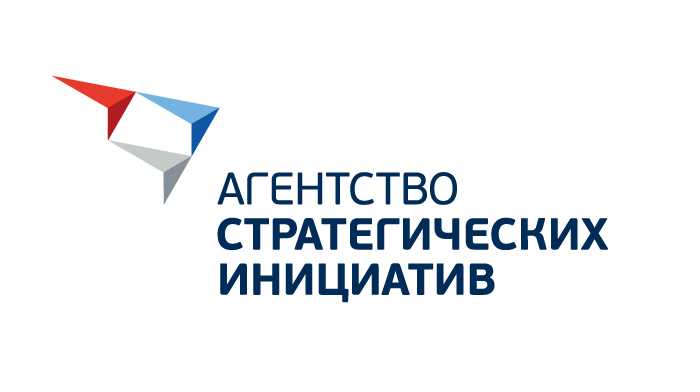Про ELVIS нам порой говорят, что это из разряда фантастики
В 2024 году Фонду «Со-единение» исполняется 10 лет. Людям, которые вместе с нами меняют жизнь незрячих, глухих и слепоглухих людей, мы посвятили цикл интервью. Сегодняшний наш гость — директор Лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. Лаборатория учреждена Фондом в 2016 году и с момента создания отвечала за высокотехнологичные разработки — в том числе такие, аналогов которым никогда не было.
Среди разработок наших коллег — устройства «Робин» и «Чарли», полезные программы для смартфона, электронный мяч для незрячих футболистов и многое другое. Но самое главное — линейка нейроимплантов ELVIS, которые способны вернуть зрение и слух даже тотально слепоглухим людям.

— Денис, как появилась Лаборатория «Сенсор-Тех»?
— Мне кажется, с момента создания Фонда повестка новых технологий и медицинских устройств всегда была в стратегии дальнейшего развития. «Сенсор-Тех» появился не сразу, нам потребовалось с командой Фонда два года для того, чтобы упаковать идею: что будет делать Лаборатория, откуда будет брать финансирование? — и точно убедиться, что идеи, которые мы предлагаем, по силам реализовать. Когда звёзды сошлись, было принято решение, что можно выводить эти проекты в формат отдельной организации — дочки Фонда, и развивать их как российский научно-технологический флагман.
— В каких направлениях планировала развиваться и что должна была делать Лаборатория в самом начале работы?
— Всё, что мы делаем сейчас, было написано в стратегии 2016 года, потому что мы с командой Фонда подошли к этому процессу дотошно и профессионально. Мы проанализировали, что происходит в мире, сделали карту исследований абсолютно по всем проектам от Австралии до Северной Америки, в которую вошли все: учёные, стартапы, технологии разработки продукта и, конечно, то, что есть в России. Проанализировали патенты, тренды и, исходя из совокупности этих знаний, а также мнений экспертов, которые нас консультировали в России, составили план. В него входили медицина, генетика, биоинженерные решения, импланты; всё, что помогает людям снова видеть и слышать, гаджеты-помощники, которые можно взять и куда-то пойти, всё то, что работает в учреждениях и создаёт доступную среду. И, конечно, программное обеспечение, потому что без него сейчас ничего не работает.
У всех нас смартфоны, у наших подопечных тоже есть смартфоны, ноутбуки, компьютеры, поэтому софт с нами и сейчас, и останется в будущем.
Все эти направления вошли в стратегию «Сенсор-Теха». Мы разбавили их тем, чем полагается заниматься научной организации — просветительской, методической и научной деятельностью. Нельзя же всё время создавать, не оставляя после себя ничего тем, кто хотел бы перенять опыт. Поэтому по сей день количество мероприятий, где мы участвуем: лекций, мастер-классов, семинаров, число методических рекомендаций, которые мы выпускаем, — растёт с каждым годом.
— Насколько расширяется эта стратегия? Например, ELVIS был изначально представлен как решение для восстановления зрения, но потом появилась целая линейка ELVIS’ов, в том числе кохлеарный имплант. Это связано с импортозамещением или, например, было в изначальных планах?
— В первоначальной стратегии не было ELVIS’ов: зрительных, кохлеарных и любых других. Была задача смотреть и искать, копать в сторону биоинженерных решений, того, что поможет слепоглухим людям вернуть и зрение, и слух. В какой-то момент, после экспериментов с зарубежными технологиями (когда мы с партнёрами установили подопечным Фонда импланты в глаза), мы всерьёз задумались, что есть возможность не только привозить что-то в Россию, а пробовать самим; воодушевившись зарубежным опытом, начать свой проект с нуля. Так появилась идея создать нейроимплант для восстановления зрения, причём мы пошли самым сложным путём — через мозг. Мы делаем систему, которая позволяет соединить камеру с головным мозгом и подарить человеку электронное зрение.
По слуху ситуация иная. В России есть ряд имплантов, которые восстанавливают слух. Все они зарубежного производства. Мы начали делать имплант раньше, чем стартовал тренд глобального импортозамещения. Но, как оказалось, ситуация, которая до сих пор продолжается в мире, где все пытаются друг друга ограничить — в технологиях, медицинской помощи и т.д., — в какой-то мере является трамплином для нашего проекта по кохлеарке, потому что не нужно объяснять, зачем делать аналог иностранных устройств. Теперь всем ясно, что такие важные технологии должны присутствовать в России, и мы должны уметь их делать. Иначе наши подопечные могут по щелчку какой-нибудь штаб-квартиры за океаном оказаться без помощи.
— Говоря про ELVIS, вы сказали об уникальной технологии, связанной с мозгом. Американская технология, которую мы опробовали, подходит 5% пациентов, ELVIS же расширит охват и будет дешевле западных аналогов.
— В 2017 году Фонд провёл операции именно с американской технологией. Двум подопечным поставили зрительный ретинальный имплант, который восстанавливает зрение, но ставился на сетчатку глаза. Наши подопечные были довольны, но, к сожалению, такая технология подходит для очень ограниченного числа людей. Из всей выборки, это всего лишь 5%. Спрашивается: что делать с остальными девяносто пятью? Невозможно же говорить, что, к сожалению, у них не тот вид заболевания и они не могут себе поставить имплант.
Благо, сейчас у науки и техники есть ответ, как сделать так, чтобы были довольны все остальные — импланты, которые ставятся в мозг, имеют показания к применению в десять раз шире! Такой имплант можно ставить человеку, у которого физически нет глаз. Но эта технология и в десять раз сложнее. Представьте себе: соединить что-то с головным мозгом. Нам порой говорят, что это из разряда фантастики, из голливудских фильмов. Но это возможно. Мы уже отрабатываем технологию на обезьянах. Скоро перейдём к испытаниям с участием первых добровольцев.
Что примечательно, в мире нет ни одной сертифицированной технологии с имплантом, который соединяет камеру с головным мозгом. Есть пять коллективов, которые находятся примерно на той же стадии, что и мы. Поэтому мы не просто занимаемся наукой и социальным проектом, а ещё и всерьёз боремся за право быть первыми, кто такое представит на мировой арене.
— Насколько лично для вас это большой вызов?
— Когда «Сенсор-Тех» создавался, я вместе с командой Фонда участвовал в разработке стратегии, как будет действовать наша организация. У меня было понимание, через что проходят люди с нарушенным слухом и зрением, мне удавалось пересекаться и общаться на мероприятиях со слепоглухими людьми. Я работал в Бауманском университете, в центре, который занимался инклюзией для студентов Бауманки и развитием перспективных технологий. Поэтому тема ассистивных технологий, медицины, реабилитации, помощи людям с инвалидностью — это было то, в чём я варился много лет. Делать что-то с прицелом на будущее, с нуля, что-то, чего раньше вообще не делали в России — сложно и страшно, но, в то же время, очень интересно, а главное, необходимо нашим подопечным.
Мне кажется, абсолютно бесстрашных людей не бывает, все должны осознавать риски, и внутри должно подогревать беспокойство, сомнение, иначе ты будешь принимать необдуманные решения. История «Сенсор-Теха» заряжающая, оптимистичная и очень нужная — и нашим подопечным, и стране. Ведь это наука, технологии, то, что спасает жизни, помогает людям здесь и сейчас.
— Как происходит разработка и как она тестируется?
— Когда мы придумываем проект, то техническое задание подписывается не сразу. Как правило, любая наша разработка: умная камера для незрячих «Робин» или «Чарли», или даже нейроимпланты, в начале представляет из себя идею и образ продукта; базовое понимание, из чего это будет сделано и как будет помогать. Но в процессе создания устройства, исследований, появляется много нюансов. Часть зависит от обратной связи, которую мы получаем от подопечных, будущих пользователей, а подопечные Фонда «Со-единение» активнейшим образом откликаются на запросы о тестах. Мы даже сделали в Фонде площадку «Полигон», которая позволяла тестировать разные технологии, и предоставляли её не только проектам Фонда, но ещё и всем желающим протестировать что-то вместе с заинтересованными слепоглухими людьми.
Возвращаясь к теме наших разработок, мне кажется, минимум пять, а иногда и десять дополнительных настроек продукта случались на этапе разработки. Это всегда живая субстанция, которую ты лепишь, что-то добавляешь, что-то убираешь. Не всегда всех всё устраивает, потому что у людей слишком разные потребности, взгляды на жизнь, они пользуются гаджетами на разном уровне: кто-то с ними на «ты», кто-то на «вы» и т.д., но в процессе тестов, доработок, переработок мы стараемся сделать что-то универсальное, что подходит большинству наших подопечных.
Сейчас наши продукты — это гаджеты, которые готовы верой и правдой служить незрячим, глухим, слепоглухим людям в нашей стране, но, как и у любого технического проекта, когда ты подготовил серийный выпуск и производишь его, история только начинается. Мы постоянно делаем апдейты, выпускаем прошивки, работаем над улучшением «железа» и выпускаем новые версии раз в год. Вот такая у нас техническая жизнь, которая кипит каждый день.
— От какой начальной точки после релиза и к чему прошёл «Робин»?
— Если рассматривать «Робин», то его жизненный путь был таким: в 2017 году мы получили грант от «Национальной технологической инициативы», и при поддержке НТИ и Фонда «Со-единение» начали работать над устройством и ещё несколькими гаджетами для наших подопечных. С 2017 по 2019 гг. шёл период разработки и выхода на мелкосерийное производство. Как правило, для сложных технических и наукоёмких проектов это хороший, в чём-то даже быстрый срок: за три года пройти путь от идеи до серийного продукта. Начиная с 2019 года мы стали мелкими сериями производить эти гаджеты и, поскольку в основном нас поддерживают благотворители и спонсоры, мы их дарили людям.
Устраивали мероприятия, ездили по школам для незрячих, реабилитационным центрам, — и предоставляли «Робина» это даром.
Так появилась первая когорта наших пользователей, которые рассказывали, что им нравятся и не нравится, подсказывали, какие функции стоит доработать. Гаджет менял название в течение жизни. Сначала мы посмотрели, что на Западе подобные технологии называют smartcane, в переводе на русский — «умная трость». Вот мы и назвали: Умная трость «Робин». Получили волну негатива, поскольку наш гаджет вообще не похож на трость. Поняли, что были не правы, и переназвали устройство: Умный помощник для незрячих «Робин». Это название сохраняется, потому что отражает суть устройства — это гаджет, который можно брать с собой, и он будет слепому человеку помогать: через наушники рассказывать, что находится впереди.
Дальше, отрабатывая обратную связь, привлекая всё больше партнёров, чтобы дарить больше гаджетов, мы постоянно модифицировали софт, аппаратную начинку устройства. Получили поддержку от Минпромторга РФ на развитие технологии. И дошли до этапа, когда в 2023 году вышло Распоряжение Правительства РФ, согласно которому «Робин» и подобные гаджеты и устройства, государство будет предоставлять людям бесплатно. Для любого производителя подобной электроники это очень важно, потому что другого способа довести высокотехнологичный инновационный продукт до пользователя просто нет.
Но если мы говорим про локальные случаи, то благодаря благотворителям и спонсорам, мы могли кому-то дарить гаджеты; но это небольшой процент от тех, кому он реально нужен. А теперь — пока это дейсвует только для детей-инвалидов — государство может такие гаджеты предоставлять. Первое, что мы сделали в 2023 году, — бросили силы на доработку функции, которая раньше была в режиме бета — чтение текстов. «Робин» теперь умеет не только распознавать объекты, не только сообщает о препятствиях, он ещё умеет, если навести его на листок бумаги и нажать кнопку, сообщать, что написано на нём. Обратная связь показала, что пользователи довольны, эту функцию удобно использовать хоть на работе, хоть дома, хоть в МФЦ. Повторюсь, это живой продукт, и если приехать к нам в офис и посмотреть дорожную карту развития «Робина», — всё посчитано на три года вперёд: что мы дорабатываем, какой релиз будет. В 2024 году мы начнём работать над уменьшением габаритов «Робина», будем делать компактнее и технологичнее и корпус, и начинку устройства.
— Как осуществляется работа «Чарли»? Вот представим: рядом находится слепоглухой человек и зрячеслышащий. Как «Чарли» соединит эти вселенные?
— «Чарли» — это умный микрофон, который «захватывает» человеческую речь и превращает её в текст, а для слепоглухих людей он выводить речь на дисплей Брайля, в виде точек. Если рядом со мной сидит наш подопечный, и я ему говорю: «Добрый день, меня зовут Денис», — то он может сразу же на брайлевском дисплее прочитать расшифровку моей фразы. И на этом же дисплее ответить: «Здравствуйте, меня зовут Игорь», — и я увижу на экране, что он написал. Это простой, понятный, но в то же время технологичный способ общения, потому что аналога подобной системы не существует.
«Чарли» — инновация не только для России, но и для зарубежных стран, потому что ещё не придумали настолько удобную, простую и, самое главное, точную систему, которая спокойно бы превращала речь либо в текст на экране, либо в текст для брайлевского дисплея. Поэтому «Чарли» уже используют более 50 организаций более чем в 20 регионах страны. Придёт слабослышащий или глухой, и на экране сможет прочитать слова сотрудника МФЦ или поликлиники. Придёт слепоглухой — сможет подключить брайлевский дисплей и прочитать всё на нём. Вот такой новый век цифровой инклюзии.
— Сотруднику нужно готовиться, чтобы взаимодействовать с «Чарли»? Это должна быть чёткая спокойная речь, хорошо артикулированная, или «Чарли» хорошо расшифровывает и «странные» виды речи?
— «Чарли» хорошо работает с обычной речью, без эмоций, кривляний. Если к нам приходит слабослышащий человек, мы, скорее всего, будем стараться нашу речь контролировать и не бубнить под нос, а правильно и корректно излагать мысли. Если сотрудник понимает, что общается с человеком с инвалидностью, у которого есть особенности в восприятии, он совершенно точно справится с гаджетом. По нашему опыту, для того чтобы настроить гаджет и научиться им пользоваться, у сотрудника учреждения уходит обычно минут тридцать. Подключили экран «Чарли», показали, как работает. Это основная причина, почему мы создали его в формате отдельного устройства. Делать софт под разные платформы намного сложнее: надо постоянно рассказывать, показывать, обновлять, чинить баги. А когда это отдельное устройство, которое работает всегда и везде, — оно удобно и им просто пользоваться.
— Какое технологическое будущее в инклюзивной среде вы видите?
— Мне бы хотелось, чтобы концепция, которая сейчас активно внедряется — «умный дом», «умный город», «умная поликлиника», «умный МФЦ», «умная школа», так или иначе включала в себя блок по инклюзии. Сейчас, когда оснащаются и города, и объекты инфраструктуры, и всё цифровизуется бесконечно, очень удобно, когда всё в цифре, а значит, наглядно. Самое время подумать и учесть вопросы инклюзии, чтобы гражданам с особыми потребностями нашлось место в новом формате взаимодействия с миром. При общении с государством, с регионами мы всё время говорим: «А давайте вы попробуете это внедрить, а давайте вы эту нашу технологию попробуете использовать». Где-то в стратегических документах Фонда «Со-единение» написано, что на горизонте n-ного числа лет хотелось бы сделать так, чтобы сам вид слепоглухоты перестал существовать. Как это можно сделать? Либо сделать так, чтобы у людей такое заболевание не наступало, либо так, чтобы у них была возможность слух и зрение вернуть. В этом плане то, что мы делаем с нейроимплантами, которые возвращают слух и зрение, полностью ложится в наше видение будущего. Мы считаем, что если человек потерял зрение, у него должен быть шанс его вернуть. Мы видим, что это нам по силам, мы можем это сделать в нашей стране и дать такую возможность нашим подопечным.
— Расскажите немного о команде «Сенсор-Теха».
— Команда «Сенсор-Теха» большая и талантливая. Сейчас нас почти семьдесят человек. А начинали с нуля — не было никого. Конечно, в силу нашего уклада, у нас много инженеров, разработчиков, программистов и всех, кто имеет технический склад ума. У нас много учёных-реабилитологов, специалистов по нейронаукам, по психологии, по реабилитации. С огромным трудом находим талантливых менеджеров, управленцев, административных работников, которые умудряются между грантами, отчётами и субсидиями делать так, чтобы все были довольны: и проектная команда, и люди/организации, которые нас поддерживают. Мы получаем много внимания благодаря работе нашей команды, которая занимается пиаром, продвижением и информированием.
Думаю, за последние годы мы сделали невероятный скачок, научились рассказывать о своих разработках интересно и показывать, как они меняют жизнь людей с такими сложными заболеваниями. Повторюсь, команда разная и талантливая. Не могу сказать, что у нас нет проблем с набором персонала.
Мы же некоммерческая научная организация, при этом делаем проекты на уровне лидеров IT и медицины в России. А там и зарплаты выше, и льготы, и, как говорят наши сотрудники, «плюшки», но зато здесь, в «Сенсор-Техе», можно увидеть, как ты поменял жизнь конкретных людей. И многих это трогает. У кого-то есть личная история, с этим связанная, кому-то просто нравится не быть винтиком в корпоративной машине, а заниматься конкретным исследованием и понимать, зачем он это делает, ассоциировать работу с помощью конкретным людям. Поэтому не думаю, что мы будем расти с точки зрения команды как на дрожжах, сейчас у нас собран костяк людей, которые хорошо разбираются в своей теме, являются лидерами в международном формате, у которых специфические знания, суперуникальный опыт. Конечно, наша задача — искать больше возможностей для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал.
— Что самое сложное в управлении организацией, которая требует немалых инвестиций особенно в непростые времена?
— «Сенсор-Теху» всегда было сложно балансировать на тонкой грани — у нас НКО и социальные проекты или же высокие технологии, стартап и бизнес? Не существует такого направления как высокотехнологичные проекты социальной направленности для глухих и слепых, которое бы хорошо поддерживалась и стремительно развивалась в нашей стране. Нам всё время приходится балансировать в социальных, научных, грантовых проектах, разворачивать деятельность в сторону науки, созидания и развития. А иногда приходится наоборот: прибиваться к стартапам, малым инновационным предприятиям, разворачивать деятельность так, чтобы она была коммерчески успешна, и показывать её как бизнес-проект. Это не всегда возможно, поэтому баланс трудно соблюдать. Разрабатывая продукты, мы ставим задачу не только получить грант или спонсорскую поддержку, но и продумать стратегию коммерциализации. Если нет такой стратегии, велик шанс, что продукт остановят ровно в тот момент, когда кончатся грантовые деньги.
Если брать наши первые «ласточки», «Робин» и «Чарли», мы смогли найти точки опоры, которые помогли после гранта, несмотря на то что это сложный рынок реабилитации. Сейчас мы выходим на достаточно большие продажи, даже на прибыль. Думаю, что сложные и наукоёмкие проекты, как ELVIS, будет ждать подобное будущее, потому что о коммерциализации мы думаем уже сейчас. О том, как сделать не просто красивый грантовый научный проект, а устойчивое социальное предприятие.
Мы с Фондом придумали уникальную для России систему, при которой часть прибыли, которая генерируется от продаж, направляется обратно в Фонд на помощь слепоглухим людям. Получается замкнутый цикл, деньги и государственная помощь, помощь попечителей несколько раз работает внутри него.
— Инклюзивное развитие — симптом здорового общества, или к этому нужно подталкивать, выстраивать системы, готовить почву?
— Если говорить про инклюзию, здесь как нельзя лучше подходит фраза «информирован — значит, вооружён». Я застал период, когда была нератифицирована Конвенция о правах инвалидов в России, и внимания к теме инвалидности было гораздо меньше. Примерно после 2010 года тренд пошёл вверх. Сейчас технологии для социальной сферы, реабилитации, технические средства на повестке многих форумов, выставкок, в СМИ и социальных сетях. Много внимания этому уделяют простые граждане, которые не связывают профессиональную жизнь с нашей сферой. И это очень важно, потому что если общество понимает, что есть люди с инвалидностью, как они себя ведут, какие у них потребности, — тогда мы и будем замечать людей, у которых, допустим, нарушен слух, будем помогать, например, что-то узнать на вокзале. Будем замечать незрячих людей, которые не знают, где и как перейти, у нас будет внутри понимание, что стоит подойти к человеку, аккуратно взять за плечо и сказать: «Давайте я вас подведу к пешеходному переходу».
Были же случаи, когда мамы закрывали детям глаза, когда шёл человек с ДЦП. Мы перестаём думать, что слепые люди — абсолютно слепые, которые не видят ничего, у нас больше знаний, потому что больше понимания, как и с чем эти люди сталкиваются. И когда мы понимаем, с чем надо бороться или хотя бы как надо помогать, наступает момент, когда общество может адекватно ответить на вопрос: «Что такое инклюзия?» И если с человеком что-то случилось, если он отклонился от нормы на время или, может быть, на всю жизнь из-за инвалидности, в обществе дожны быть механизмы, которые помогут вернуться или приблизиться к этой норме, предоставить ему устройство, технологию, специалиста, возможность обучиться, получить другую профессию. Но это возможно не по указке. Это возможно, если мы об этом думаем и признаем, что надо решать возникающие проблемы.
Человечество способно создавать самые необыкновенные вещи. Мы это знаем, история это показывает. Поэтому внимание к инклюзии будет расти. В России, как мне кажется, из года в год этот тренд всё устойчивей, и государство всё больше внимания уделяет этой теме, и больше ресурсов направляет на социальную защиту.
— Что можно сказать скептикам технологических новаций?
— Скептики будут всегда, и это — норма. Должна быть система сдержек. Кто-то должен относиться супероптимистично, кто-то — суперскептически, а истина посередине. Все занимаются разной работой. Мы придумываем новые технологии и стараемся, чтобы наши идеи воплотились в виде реальных устройств, медицинских изделий. Когда-то тот, кто нас критикует, может оказаться правым. Но пока мы показываем себя как людей ответственных, которые понимают, что они делают, и обещания, проекты, за которые мы брались, выполняем и делаем так, чтобы жизнь людей с одновременным нарушением зрения и слуха становилась лучше. А критика нужна всегда. Мы в команде это постоянно обсуждаем — если есть критика, которая выбивает из колеи, это исключительно твоя проблема. Ты должен уметь отделять мух от котлет, чтобы эпизоды, когда люди ругаются от усталости или озлобленности, выслушать и убрать в сторону. Но иногда критика корректна и напоминает о том, о чём ты мог забыть, потому что нельзя учесть всё — она нужна. Поэтому мы стараемся адекватно воспринимать скепсис, критику и, честно говоря, когда мы говорим про новые технологии, людей, которые критикуют, всегда будет больше тех, кто скажет: «Вау! Круто! Это точно заработает». Так устроено человечество. Вспомнить хотя бы знаменитый смартфон, который представил Стив Джобс. Его критиковала вся индустрия и говорила, что дело не пойдёт. Но у него было видение, и он понимал, что за его технологией будущее. У него был опыт, экспертиза, и он верил в свою идею. Сейчас оказалось, что он был прав, и таких случаев немало. Критика, повторюсь, всегда полезна, главное не давать ей выбить тебя из правильной рабочей колеи.
— Какие проекты Фонда вам кажутся наиболее интересными и важными, а на что бы вы посоветовали обратить внимание?
— Мне очень нравится концепция Фонда «Со-единение». Конечно, 95% моего внимания находится вокруг технологий и того, что делает «Сенсор-Тех». Мы люди увлекающиеся, и у нас важная задача — технологически помочь подопечным. Но если брать проекты других дочек, иногда поражаешься тому, как системно, много лет, с большим охватом и масштабом работает наша огромная семья. Сколько получается ярких и интересных проектов реализовывать по всей стране.
Единственное, что мне в последнее время тяжело даётся, — понимание, что мы выпадаем из международного общения и коллаборации. Потому что я знаю, насколько важно транслировать знания за рубеж. Это не пустые слова. Фонд настолько глубоко и хорошо проработал свою тему, что наши практики с удовольствием забрали бы коллеги, которые находятся в самых разных уголках мира.
Поэтому надеюсь, что когда напряжённые моменты спадут, у нас будет новый ренессанс в плане работы с зарубежными партнёрами, мы возобновим международные конференции, снова будем активно ездить и рассказывать, какие важные и значимые проекты делает Фонд.
Мне хочется, чтобы эти знания становились системнее, хочется видеть больше методичек, может быть, фильмов. Важно делиться знаниями. Вижу, что в этом у «Сенсор-Теха» есть пробел, мы иногда слишком быстро бежим, не успевая оставить время на рефлексию. Знаю, что у многих коллег из Фонда есть подобные мысли — что ты не успеваешь оставлять после себя знания, которые будут изучать люди и в России, и за рубежом. Мне кажется, это наша точка роста, которую точно стоит укреплять в ближайшие десять лет.
— Что бы вы пожелали Фонду к его десятилетию?
— Поздравляю любимый Фонд «Со-единение» с десятилетием. Честно говоря, не могу даже ощутить, что прошло уже десять лет. Ну, три, может быть, четыре года. Настолько быстро мы двигались, настолько много яркого, интересного и полезного успели сделать. Даже боюсь представить, что будет в следующие десять лет, потому что уже есть огромная, талантливая, потрясающая команда, большое количество подопечных, которые полностью разделяют наши идеи и помогают реализовывать проекты.
У меня внутри иногда мурашки от того, что мы можем достичь ещё через десять лет! Поэтому надеюсь, они не пробегут так же быстро, как первая десятилетка. Надеюсь, мы сможем вдоволь поработать и насладиться тем, что мы так любим. А мы любим помогать нашим подопечным, и мы любим наш Фонд. Спасибо большое. С днём рождения! С десятилетием!
Беседовал Владимир Коркунов