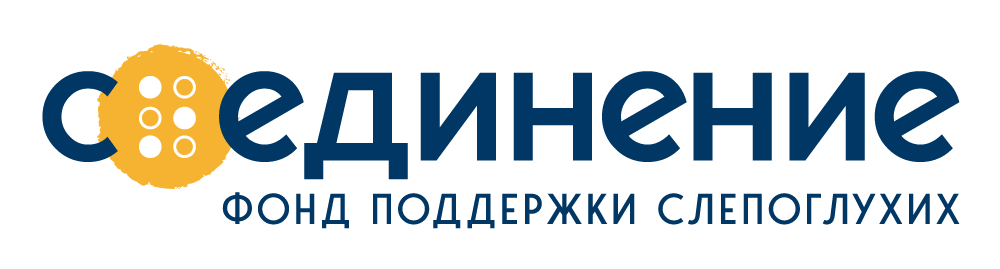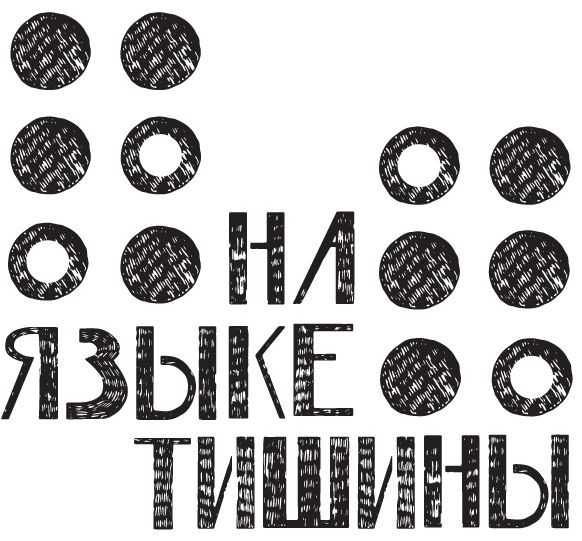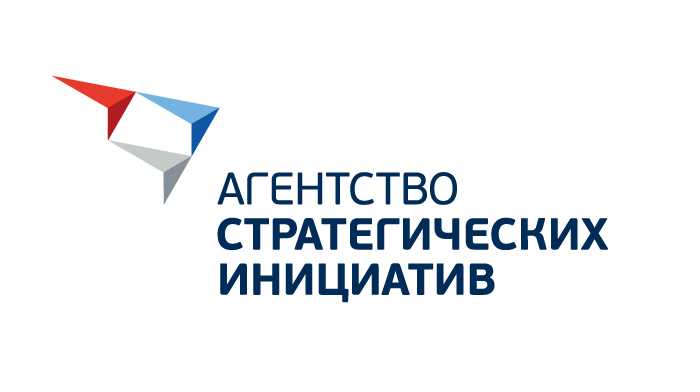Анна Грувер
Как мы узнаем друг друга
Вместо предисловия я хочу объяснить, что ниже будут только мои личные размышления про феномен поэтического мышления как слепоглухоты. Размышляя о слепоглухоте, я не имею в виду ее стигматизирование и все сложные вызовы, с которыми сталкиваются слепоглухие люди в своем взаимодействии с миром. Мы не можем позволить обществу забыть об этой ежедневной борьбе и закрыть на нее глаза. Но также мы не можем позволять то, что часто называют «квотой», а на самом деле обесценивает творца, — пренебрежительную беседу, которая унижала бы произведения слепоглухих только потому, что их авторы — слепоглухие. Ведь, как известно, в какой-то мере все искусство стремится к воплощению недостижимой идеи.
Звук объясняется через определение колебательного движения. Врач пристально изучает кардиограмму и указывает на паузы, объясняя: эти остановки сердца выходят за пределы нормы, они опасны. Что происходит между ударами? Я вижу графические линии и могу только предполагать, о чем на самом деле говорят подъемы и падения тонкой линии. Но доктор слышит сердце лучше меня — он читает его с листа. Без предварительного объяснения тест Роршаха и абстрактный экспрессионизм Джексона Поллока смешиваются пятнами цветов.
Случайный прохожий замечает нотный лист, который лежит перед уличным аккордеонистом, и видит только точки, точки и теги вместо диезов. Мы видим медные струны и молоточки внутри пианино — внутренности инструмента для нас немы, хотя настройщику известно, о чем они могут рассказать.
Мы чувствуем, как гудит вода за стеной в невидимых трубах и как ей вторит гром незамеченной нами в дали молнии. Вспоминаю «Голос» Олега Лышеги: «Как можно думать о том, чего не знал и не видел? <…> Ведь голос не успевает за взглядом, он приходит чуть позже. После молнии еще нужно подождать грома». Бьют колокола — к литургии, но тот же звон одновременно значит, что пожилая соседка идет с собакой на утреннюю прогулку. Один распознает «Da pacem Domine» Арво Пярта, другой — просто услышит молитву на неизвестном языке и, возможно, поймет её более тонко, глубже и полнее. Первая любовница после восьми лет молчания не поймет, кто я, при встрече на перекрестке; а я не смогу определить номер трамвая по дребезжанию. Иногда даже случайные разговоры двоих не чужих людей выглядят так:
Голос 1: Ты чувствуешь этот запах?
Голос 2: Вроде как гарь, может, что-то подгорело этажом выше?
Голос 1: Но разве ты не видишь, что крыши потонули в?..
Голос 2: Это туман, просто туман. Обычный смог.
Голос 1: Нет, это пожары - Луганская область в огне.
Голос 2: А-а, кстати, у меня что-то в горле сегодня дерет, может, простудился. Смотри, над Сумской все еще новогодние гирлянды…
Голос 1: ...и они отвратительны, не так ли?
Голос 2: ...поддерживают атмосферу праздника. <…> В этой пиццерии ничего не изменилось.
Голос 1: Да, даже высокие стулья такие же - делают младше лет на десять.
Голос 2: Неужели? А я думаю, что постарел, просто пиццерия остается неизменной. Какой цвет ты видишь, когда смотришь на абсент Пикассо?
Голос 1: Синий. Конечно же, синий.
Голос 2: Да ну? Это же зеленый, я сейчас докажу тебе, что он - зеленый.
Голос 1: Но тебе ведь заранее известно, что абсент должен быть зеленым.
Голос 2: Ты рассказываешь истории и никогда не говоришь о себе.
Голос 1: Неужели непонятно, что именно это и есть искренность?
Голос 2: Нет. Нужно называть чувства своими именами.
Неважно, кому принадлежат голоса (хотя они бесстыдно заимствованы из реальности), потому что каждый раз, когда мы смотрим на одну и ту же трещину дерева, видим разные разломы времени и пространства. Слепоглухоту я не представляю похожей на абсолютную темноту, наоборот — похожей на абсолютный свет. Свет всепоглощающий, обжигающий, безграничный, всеобъемлющий. Мы думаем, что называем вещи «своими именами», но вот раскол: наши имена всегда отличаются. Я позову тебя, назову тебя твоим именем, а ты — не в силах услышать — не услышишь. В переписке с Ингеборг Бахманн, думая о большой «Фуге смерти», Пауль Целан писал, что действует в пустоте. Куда мы делаем шаг в темноте? Разве мы знаем наверняка, что под ногами не будет ямы? И идем — именно в этом слепоглухота и поэзия тождественны.
Взглянем на гончарные мастерские, где слепоглухие с рождения дети учатся делать фигуры птиц и зверей. Кажется, иногда эти животные как бы сошли с картин Марии Приймаченко, а из картин Серафины Луи из Санлиса проросли цветы и райские деревья. Никогда не видя — на иллюстрациях, в букваре, мультфильме, зоопарке — как слон поливает себя в жару, пальцы ребенка вылепливают изгиб хобота. Это слон? Безусловно, слон. Мы узнаем слона. Мы узнаем идею слона, и поэтому он способен трубить, он оживает, оживают его глаза, большие уши. Дождь отстукивает ритм — и человек повторяет ритм, чувствуя его вибрацию телом, пропуская звук сквозь себя. Система метафор или графический рисунок текста — это ли не одно и то же? Что может поэт в мире, где зло, добро, беззаконие, закон, чёрное, белое и все существующие оттенки требуют непрерывного называния? Идти вслепую, в тишине, навсегда оставаясь одиноким, но чувствуя дыхание тех, кто идет рядом и не позволит упасть. В мире, где концерт классической музыки (как в короткометражке Михаила Богина «Двое» 1965 года — про студента Рижской консерватории и глухую актрису) вынуждает страдать, потому что напоминает о войне, взрывах, смерти.
Просыпаясь от обыденной скуки на лекциях фоносемантики, студентки тайком сверяли свои чувства с понимаем цвета за сонетом Артюра Рембо, где «А» — черное, белое, «И» — красное и:
...У — дивные круги морей зеленоватых,
Луг, пестрый от зверья, покой морщин, измятых
Алхимией на лбах задумчивых людей.
(Перевод с французского Николая Гумилёва)
И я тоже писала на конспекте инициалы темно-синей пастой и всматривалась в буквы, а потом, плотно сомкнув губы, держала под языком звук, — и буквы со звуками вовсе не отражались. Таким образом иногда параллельными прямыми тянутся форма и суть. В конце концов, чем больше они отстраняются от носителя имени, тем меньше связаны между собой и существующими в сознании цветами. Но американская писательница и политическая активистка Хелен Келлер (1880-1968), почти полностью утратив слух и зрение, описывала смену времен года в тексте Autumn так:
О, какую красоту надел на себя мир
Эти бесподобные прекрасные осенние дни
Везде царит дух радости,
Лесистые обочины ярко сияют разноцветной листвой;
Лесные деревья с королевским величием облачились
В их прекрасные осенние гобелены;
И даже камни и заборы расшиты
Папоротником, мхом и блестящими оттенками плюща.
Но так изысканно смешаны свет и тень,
Золотые, багровые и пурпурные, так что все чувства ликуют;
Ведь сам Господь нарисовал этот пейзаж.
Склоны холмов сверкают золотой кукурузой;
Яблони и персиковые деревья склоняются под тяжестью золотых плодов.
Золотые стебли также здесь; их целое войско,
С развевающимися перьями, сияющие золотом;
И возле дикого винограда, пурпурного и полного солнечного света,
Маленькие птички отправляются на Юг
Задерживаются, как путешественники в трактире,
И потягивают ароматное вино...
(Перевод с английского Ксении Чикуновой)
Я (перевожу) и цитирую здесь фрагмент этого стиха для того, чтобы показать, как поэтесса в нем работает в основном с цветами: перед ней (на первый взгляд) самая простая палитра для описания осени: через багровый, золотой, пурпурный; это похоже на этюдик старательной ученицы на пленэре. Но достаточно лишь немного изменить точку зрения — и становится понятно, что прорисованная детализация, напряжение, сосредоточенность на мелочах этого стиха не дает спокойствия. Происходит странная для читателя вещь: чувства Хелен Келлер используют метафоры для цветов - не наоборот, как это обычно происходит с романтической поэзией того времени. Внешнее объясняется через внутреннее: сначала деревья чувствуются, и только после этого познания их можно увидеть и назвать. Поэтому такая поэзия кажется нам более похожей на реальность, по крайней мере, она может претендовать на то, чтобы называться реальностью.
Каждый поэтический текст — это идея текста, вылепленная из глины, обожженная в огне. Но что выделяет поэзию Хелен Келлер? Неужели только то, что она почти потеряла зрение и слух? Разве не было бы преступлением перед поэзией и истиной утверждать, что ее оптика, ее поэтика — это заслуга ее болезни?
Можно ли вообще выбирать, что лучше: видеть или не видеть или не видеть и — видеть? Слышать и не слышать или не слышать и — слышать? Время признать, что на просторах поэзии все мы одинаково не слышим и не видим. И только тогда нам везет — на ощупь отыскать этих путешественников в трактире, маленьких птичек на блестящем фоне плюща, потому что, как писал Витгенштейн, то, что мы называем смыслом, находится не в нем [мире], а вне его.
Эссе в оригинале:
https://prdg.me/uk/jak-my-vpiznajemo-odne-odnogo
(«Парадигма», № 2, 2020)
Об авторе
Анна Грувер — поэтка, эссеистка, критик. Родилась в Донецке в 1996 году. Училась в Литературном институте им. А. М. Горького. Студентка Института иудаики Ягеллонского университета. Стихи публиковались в журнале культурного сопротивления «ШО», «Контекст», на порталах Litcentr, Soloneba, «Ф-письмо» и др. В переводах на русский язык — в журналах «Воздух», «Двоеточие», на портале «полутона» и др. Критика и эссеистика — в журналах «Новый мир», «Знамя», «Цирк “Олимп”+TV» и др. Переводит на польский и с польского эссе и современную поэзию. Лауреатка конкурса издательства «Смолоскип». Авторка сборника стихотворений «За вашим запитом нічого не знайдено» (Киев: Антииздательство, 2019). В переводах на русский язык вышел сборник «Демиурги в фальшивых найках» (М: UGAR, 2020). Соредакторка журнала Paradigma. Живёт в Киеве.
О переводчице:
Ксения Чикунова — филологиня, журналистка, поэтесса, переводчица. Родилась в 1998 году в Киеве. Студентка Школы журналистики и медиакоммуникаций Украинского католического университета. Участница Международного литературного фестиваля в рамках Форума издателей (Львов), фестиваля «Остров Европа» (Винница), Всеукраинского инклюзивного проекта «Почути». Стихи и переводы публиковались на порталах Litcentr, Kyiv Daily, альманахе «Артикуляция» и др. Живет во Львове.