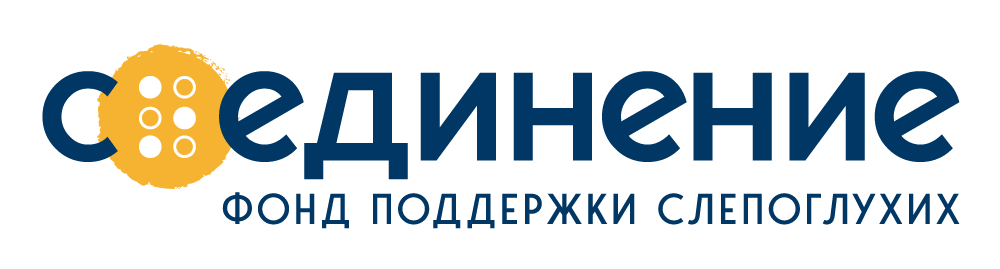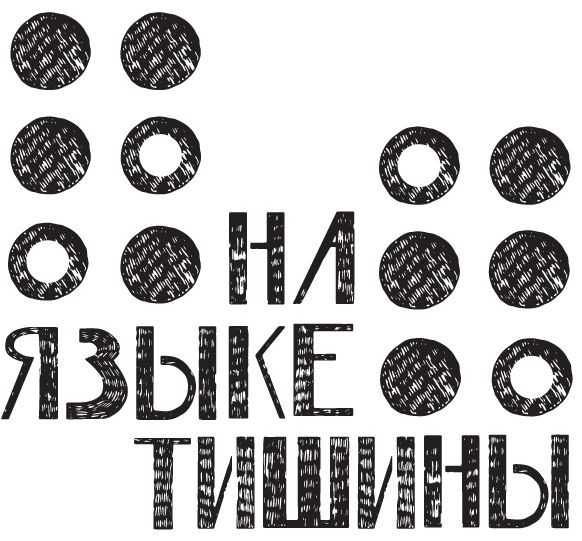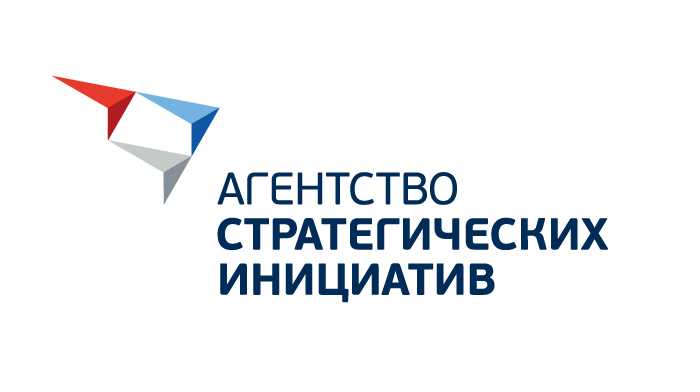Андрей Тавров
Отрывок из романа «Матрос на мачте»
Утопия
Они проехали через центр города, горящий золотыми куполами знаменитого монастыря на синем мартовском небе — и весь город, и сам монастырь были похожи то ли на шкатулку, то ли на шарманку, на что-то веселое, сказочное, берендеевское и пряничное, и тут пошел снег, сразу стало темнее, а хлопья порхали за окном — огромные, слипшиеся, и таксист включил дворники. И монастырь, и город были похожи на что-то дремучее, драконье, что-то василе-блаженное, китайское с острыми зубцами на шлемах воинов и пагод. И теперь на русский Китай с его лопухами, немереным литым златом и репейником глав сыпал белый снег, и мокрое шоссе сразу побелело. Справа мелькнул за метельным пологом «Макдональдс», мелькнул, исчез, а потом исчез и городок в табакерке, и они ехали запорошенными полями с одинокой церковкой вдалеке и домиками дачных поселков, и кое-где в полях торчали и дымились трубы, и шла своя отчужденная производственная жизнь.
Шарманщик сидел сзади с Арсенией и глядел в окно, а на переднем сиденье глухонемой мальчик Никита показывал шоферу дорогу. Она не очень хорошо представляла себе, для чего они едут в этот самый дом для слепоглухих. Домов таких она боялась, потому что знала, что строят их, чтобы с глаз долой из сердца вон, а точнее, чтобы не мельтешили инвалиды перед глазами столичных жителей. Это как тюрьма, в которую попадают из-за порока физического, который, как выразился (на ее взгляд, по недоразумению) один священник, служит искуплением детей за грехи взрослых. Если у этого священника такой Бог, который создал мир, где дети искупают грехи взрослых, причем, у них никто про это не спрашивал, хотят они этого или нет, то с таким Богом ей не по пути. Иногда ей казалось, что священники все меньше и меньше понимают, что они говорят. Тогда еще ничего. Но некоторые, кажется, понимают, и тогда это страшно. Тогда они на стороне Бога-садиста. Ведь отец никогда не отдаст своего ребенка в тюрьму, чтобы отменить тюремное заключение насильнику и убийце, а Бог-отец, значит, готов к такому обмену. Иногда мне кажется, что люди в Церкви вместо того чтобы помогать этому миру выздоравливать, взяли, да и сошли с ума, как сказал однажды про себя Дон-Кихот, без всякой причины. Слава Богу, что не все. Но если так пойдет дальше, то я убегу в тот город, где нет ни одной церкви — ни мусульманской, ни православной, ни иудейской. Наверное, такие города еще есть, а если нет, то я убегу на остров или еще куда-нибудь.
Она боялась, что встреча с увечными ребятишками будет тяжела для нее и тяжела для Шарманщика, и все же они туда ехали из-за Никиты, который писал рассказы, где петухи были золотыми, море зеленым, а солнце — круглым. Он сидел на переднем сиденье в синей бейсболке, из-под которой выбивались длинные вьющиеся волосы, и то ли напевал, то ли насвистывал что-то шоферу, а тот, время от времени на него оглядываясь, вез их к приюту и, в конце концов, действительно, довез, ни разу не сбившись с дороги. Странно, что Шарманщик так сразу согласился поехать. Выглядел он неважно, лицо — серое и напряженное, как будто не спал сутки, наверное, тоже волновался.
Они вошли в просторный холл. Никита отправился искать директора, а потом вернулся, и они пошли знакомиться с ребятишками. Их вела молоденькая девушка, которая представилась Тоней. Она оказалась прихожанкой того самого монастыря, мимо которого они только что проехали, у нее было ясное лицо, зачесанные и забранные в короткую косу волосы, и она улыбалась. Они вошли в комнату с детьми. Ребятишки были маленькие и живые — мальчики и девочки лет пяти-семи, некоторые с очками на носу. Двое подбежали к ней и схватили за руки, одна девочка пошла к Никите, но не дошла и стала его рассматривать с расстояния. В углу, на ковре еще одна девушка-воспитатель играла с ребятишками, собирая дом из конструктора.
Арсения вспомнила про свое напряжение и увидела, что его больше нет. Мир почему-то стал радостным и надежным. Он везла сюда с собой силы, чтобы ободрить этих детей, сберечь свое напряжение и не дать ему вырваться наружу, а дать вырваться наружу силе, но сила, как дракон, сама стала входить к ней, не постучавшись, а просто потому, что была тут с самого начала, и она догадалась об этом, как только увидела Тоню, но не решилась в это поверить. Она слушала, как Тоня говорит про свою работу Шарманщику, а тот молча смотрит на нее и кивает, а потом села на коврик, где дети вместе с девушкой в свитере собирали конструктор.
— Как вы с ними разговариваете? — спросила она девушку. — Та подтолкнула к ней мальчика в джинсовых брючках и сказала: Пишите. — Пишите ему на ладошке, он поймет. Арсения написала пальцем на его ладони: Привет! — Мальчуган заулыбался, глядя на нее из-за створок толстенных очков. Половины зубов спереди у него не было. — Пливет! — отозвался он. — Пойдес смотреть спектакль? —– Какой спектакль? — написала Арсения у него на ладони букву за буквой? — Про Дол Кихона, — отозвался мальчишка. — Как на такое не пойти! — написала Арсения и оглянулась.
Шарманщик сидел у нее за спиной на корточках и напряженно смотрел на ребятишек. Потом он неуверенно улыбнулся, и губы его, словно нащупывая новые звуки и слова, тихо зашевелились. Слова не давались, он кривился и морщился, словно поднимая тяжесть, но не переставал улыбаться и продолжал свои неуклюжие старания. Потом он подобрался к мальчугану в джинсах поближе и спросил:
— Ты кто?
Арсения вздрогнула. Шарманщик заговорил.
А мальчишка ответил, поняв слова по шевелению губ Шарманщика. — Я мальчик, — выговорил он почти ясно. — А я Шарманщик, — сказал Шарманщик. — Меня так зовут. — А как ее зовут? — спросил мальчуган, показав на Арсению. И она медленно произнесла, чтобы он понял: Арсения. — А меня зовут Петя, — сказал он.
Арсения села поближе, уступая место на коврике Шарманщику. И тот сел на коврик, как большой нелепый горбун, и показал на пластмассового зеленого зверя. — Крокодил, — сказал Петя. Шарманщик нахмурился и произнес: Кро-ко-дил. И еще раз: Кро-ко-дил. От старания и напряжения на лбу у него выступил пот, он несколько раз дернул щекой, перевалившись на бок, достал из кармана платок и стер пот с лица, засунул платок обратно, а потом показал на другого зверя. — Лошадь, — сказал Петя. — Ло-шадь, — повторил Шарманщик. — Лошадь, — он криво улыбнулся и закашлялся. — Ага, — сказал он и сглотнул слюну. — Вот именно что лошадь. — К ним подошел еще один мальчуган в рубашке с парусниками и начал быстро жестикулировать, открывая и закрывая рот. — Что он сказал? — спросил Шарманщик у Тони. — Он говорит, что он ездил на лошади. — Это когда же? — спросил Шарманщик у мальчика с парусниками на рубашке. — Тот, глядя на Шарманщика преданными глазами, снова зажестикулировал, открывая и закрывая рот. — Летом я катался на лошади, — перевела девушка. И добавила: это правда. Мы катаемся на сеансах иппотерапии. У нас есть свой манеж. — Я тоже ка-тался… на ло-шади, — хрипло сказал Шарманщик, подозрительно прислушиваясь к звукам собственного голоса. — Я ка-тался на ло-шади, — повторил он. — Сглотнул. — Я ка-тался на ло-шади. Я бу-ду ка-таться на ло-шади. Я бу-ду ка-тать де-тей и ка-таться на ло-шади.
— Как. Это. На-зы-вается? — страдая и скалясь, спросил он у девушки.
— Дактильная азбука, — ответила та, улыбаясь.
— Да нет же. Нет, — он защелкал пальцами, — как же это-то наз-ы-вается, ко-гда так вот?
— Это?
— Ну, да, это… — Он напрягся, закрыл глаза, словно там, внутри своих глаз выискивая то, что никак не мог вспомнить, и в горле у него забулькало и захрипело. Он мотнул головой и снова закашлялся. Потом ощерился и сказал: прав-да. Рот его перекосило, и от этого он казался наклеенным и чужим.
— Это называется — прав-да. Ло-шадь — есть. Я — есть. Меня зовут Шар-ман-щик.
Он сидел, как большой страшный горбун среди детей, держа в руке пластмассового крокодила, лицо его было бледным как мел, но его не боялись. Он сидел и смотрел то на крокодила, то на воспитательницу до тех пор, пока не начал всхлипывать и трястись. Но никто не стал ему говорить, что ему плохо, и он так и сидел и всхлипывал дальше до тех пор, пока не затих, не успокоился и не согнулся еще больше. Горб стал теперь таким большим, что непонятно было, как это у одного человека может быть так много горба. Свитер на нем натянулся, а голова ушла в колени, и казалось, что это какой-то не человек, а, может, даже животное. Он всхлипнул еще раз, поднял мокрое от слез лицо и начал медленно разгибаться.
Арсения глядела на него и видела, что теперь в него снова входят слова, которые он раньше навсегда потерял. Вернее, входят не те, которые он потерял, а другие, что родились в нем теперь еще раз заново, появившись не потому, что он их от кого-то услышал, а потому что они в нем самом рождались вторым и главным рождением, вырываясь из его новой жизни на свет, каждое — с болью, мучением и хрипом радости, и от этого он теперь был похож на животное и на рожающую в пыли цыганку. Она видела, как он потом поднялся и отошел в сторону и там уткнулся головой в угол, но все равно было видно, как шевелятся его губы, а плечи вздрагивают и трясутся.
Он стоял там, и никто к нему не подходил, потому что все, наверное, поняли, что рождается заново человек в мир со своими новыми чувствами, трудами и словами, и что сейчас мешать ему не надо, поэтому пусть он помучается в своем радостном труде, а зато потом они пообщаются уже про все. Потому что все в этой комнате, и дети, и взрослые, каким-то своим образом знали, что общение не в том, чтобы называть слова, как это делают там, за стенами этого дома — тысячи и тысячи людей, произнося тысячи слов, а в том, чтобы увидеть, что лошадь — это лошадь, и сказать себе об этом и ей тоже, и тогда она станет сама собой, лошадью, с травой, зеленым лугом и запахом скошенной травы, потому что до этого она была собой недостаточно, а солнце станет солнцем, потому что и оно, пока не дашь в себе родиться правильному слову, было собой недостаточно; а Бог станет Богом, потому что пока ты не увидел в себе внутри его теплое дыхание и не дал ему выйти из тебя в слове «Ты!», он не был еще Богом, а если и был, то был им недостаточно тоже. И если тебя называли Шарманщиком, а твою жизнь нелепой или злой, а пусть даже и хорошей, то и тебя и любого самого человека, который это делал при тебе или за глаза — тоже было недостаточно для того, чтобы жить или быть. И если ты боялся себя и людей, и то, что они говорят про тебя и твою любовь, то ты не мог разговаривать правильно, а использовал слова только для того, чтобы многое забыть, и чем больше ты их использовал, тем больше ты забывал, зачем ты здесь и кто ты такой. Потому что тот, кто боится или не прощает — не может говорить правильно. Его слова будут словами забвения, даже если он знаменитый писатель. Нельзя создать слово в ненависти или забывая. Но… мы пришли сюда, кажется, чтобы не расширять поляну забвения, не расширять амнезию, а чтобы, создавая слова, вернуть мир и себя самих — к себе. Для этого надо уйти из стаи. А потом снова вернуться в нее. Уже став словами. Словом.
Об авторе
Андрей Тавров — поэт, прозаик, критик. Родился в 1948 году в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор четырнадцати поэтических книг, продолжающих и углубляющих поэтику метареализма, пяти романов, эссеистических «Писем о поэзии» (2011), сборника «И поднял его за волосы ангел» и книги сказок для детей. Главный редактор поэтической серии издательства «Русский Гулливер» и журнала «Гвидеон». Лауреат премии Андрея Белого (2019). Живет в Москве.